Лекция
Это окончание невероятной информации про проблемы психологии интрацепции.
...
ситуации, в которой он мог бы ее испытывать. Так, пациент говорит, что испытывает острую боль, представляя порез, тупую — как ощущения при надавливании, жгучую — ожог и т.д. Когда же пациент с коронарной недостаточностью говорит о своей боли «как будто грудная клетка раздавливается», то он скорее всего строит описание в терминах «воображаемой ситуации».
Г.Е. Рупчев (2001), выделивший психологическую специфику «внутреннего тела», подчеркивает, что кроме того, что внутренние телесные ощущения имеют генетическую связь с экстрацепцией, их структура соответствует структуре метафоры.
Метафора — это один из видов тропа, оборот речи, где общий признак двух сравниваемых слов (объектов) переносится на один из них, который при этом получает «переносный» смысл.
Многие названия телесных ощущений, будучи метафорически ми по происхождению, из-за своего частого употребления давно уже так не воспринимаются. Например, «сердце колет», «голова раска лывается», — эти ощущения в обыденном языке имеют характер конкретных телесных ощущений. В своих метафорических формах они и воспринимаются (обнаруживаются) и репрезентируются в качестве первичного, элементарного симптома врачу, не подразу мевая никакой субъективной переработки.
Кроме этих, конвенциональных интрацептивных метафор, индивидуальный язык позволяет человеку проявлять творчество в объяс нении своего самочувствия, но определенная часть сравнений уже имеет клиническое значение. Это классические истерические стигмы — « globus hystericus » (ощущения кома в горле), « clavus hystericus » (ощущение вбитого гвоздя), головдая боль «по типу обруча».
Пожалуй, именно в процессе интрацепции субъект получает воз можность использовать метафору как способ передачи непереводи мой информации. Механизм метафоры заключается в «перенесении» значения с одного объекта на другой. В этом контексте область внут реннего тела, недоступная непосредственному «объектному» воспри ятию, нуждается в «форме», которая должна быть связана с наиболее обобщенной человеческой практикой. Так, неясное ощущение дискомфорта в желудке, не говорящее ни о чем, кроме того что это не нормально, заимствуя значение из обычной деятельности, при обретает форму ощущения тяжести в желудке, представить кото рую на основе значения слова «тяжесть» легче, чем пытаться вооб разить, что можно чувствовать, когда есть ощущение дискомфорта.
В сфере внутренней телесности феномен метафоры — это уже «не роскошь, которую может позволить себе литература, не редкое эзотерическое или чисто декоративное средство» ( Гудмен, 1978 — цит. по: Рупнев, 2001, с. 199), а способ знакового овладения, психологическая функция, имеющая несколько связанных друг с дру гом аспектов:
Таким образом, метафоричность внутренней телесности не только решает известные трудности коммуницирования качества своих ощущений 2 , но является одной из центральных ее характеристик.
Вернемся еще раз к парадоксу восприятия. Второе условие, позволяющее его смягчить и достаточно непротиворечиво объяснить происхождение категорий, — отказ от рассмотрения восприятия как единичного акта, вырванного из текущей перцептивной дея тельности. Основная ошибочная посылка теоретического характера заключается в том, что чувственное впечатление, вызываемое тем или иным внешним воздействием, рассматривается в качестве элементарного знания, из которого за счет его «переработки» строится знание более высокого уровня. Предполагается непосредственный характер получения исходных элементов знания. На самом деле чув ственное впечатление приобретает предметную отнесенность, т.е. становится элементом знания не прямо и непосредственно, а толь ко тогда, когда оно выступает в качестве звена циклического процесса, инициированного субъектом, т.е. исходное звено которого представляет собой движение от субъекта на объект в форме позна вательной гипотезы, предварительного знания или регулируемого ими практического действия (см.: Смирнов С.Д., 1983а). Наличие стимуляции является только условием, а не причиной возникно вения чувственного образа{Там же).
Это отнюдь не принятие объективно-идеалистической точки зрения, выводящей все восприятие из субъекта и игнорирующей вклад объективного мира (кстати, подобный подход не разделяется практически никакими из современных философских направлений). Речь идет о том, что невозможно понять восприятие, если исхо дить из отдельных чувственных данных, не вписанных в постоянно существующий контекст — «образ мира». Так же точно как отдель ный индивид не является Робинзоном, а осваивает культурно вы работанные стереотипы в непрерывной связи с социумом, от дельное чувственное впечатление не появляется в виде deus ex machina на фоне «пустого сознания». «Образ мира и есть система экспектаций (ожиданий), порождающая объект — гипотезы, на основании которых идут структурирование и предметная иден тификация отдельных чувственных впечатлений. Для того, чтобы этот процесс начался, не имеет принципиального значения объек тивная верность гипотезы. Если гипотеза ошибочна, отдельные ощущения не получают характера устойчивых структур... (отдельный образ. — А. Т.) взятый вне контекста, является психологичес ки мертвым образованием, т.е. он не может быть не чем иным, как элементом образа мира или его актуальной частью... ориентирует не образ, а вклад этого образа в картину мира... можно сказать, что отдельные толчки внешней реальности не формируют наше пред ставление о мире, а лишь подтверждают, дополняют или исправ ляют его» ( Смирнов С.Д., 1981, с. 19).
2 Вирджиния Вульф в своем эссе «Когда болеешь» замечает, что «...у анг лийского языка, способного выражать думы Гамлета и трагедию короля Лира, нет слов для дрожи и головной боли... как только страдающий попытается описать врачу свою головную боль, богатство языка исчезает...» (Цит. по: Мел-зак, 1981, с. 42).
Образ мира как целостная и упорядоченная система — не только средство, привлекаемое для «обработки» стимульного воздей ствия. Все обстоит как раз наоборот: основной вклад в построение образа вносят не отдельные чувственные впечатления, а сама целостная система образа мира. Радикальное и полное преодоление сти- мульной парадигмы, рассматривающей восприятие как реактив ный процесс, возможно только при понимании познания как инициированного субъектом процесса, направленного навстречу стимуляции. Этот процесс не просто запускается в ответ на случив шееся в реальности событие, но существует непрерывно.
Для интрацепции таким непрерывно существующим фоном бу дет своеобразная чувственная ткань нормального функционирования — самочувствие, то, что старыми врачами называлось « vigor vitalis », в контексте которого будут получать свое существование отдельные телесные чувственные впечатления.
Отказ от стимульной парадигмы восприятия и признание за субъективной активностью, в рамках и формах которой только и может осуществляться познание реальности, решающей роли, смяг чает парадокс восприятия, но весьма остро ставит проблему ис тинности его результатов. Если они определяются в первую очередь существующим непрерывным контекстом, а уже затем наличной стимуляцией, то, в принципе, существует возможность искажения в широких пределах качеств объективной реальности. Набор категорий и их структура будут весьма сильно сказываться на том, как именно мы будем воспринимать мир. Это очевидным образом следует принять, если понимать акт восприятия как определяемый не только объективно, извне — характеристиками стимула, но и изнутри — субъективными характеристиками.
«Люди, пользующиеся заметно разными грамматиками, направ ляются своими грамматиками к наблюдениям различных типов и к разным оценкам внешне сходных актов наблюдения, в связи с чем они не являются эквивалентными наблюдателями и должны прихо дить к различным представлениям о мире... Одни и те же физи ческие свидетельства не приводят всех наблюдателей к одной и той же картине универсума, за исключением тех случаев, когда их линг вистические основания сходны или их можно каким-либо образом сравнить» (Whorff , 1956, р. 214, 221). Как отмечает П. Фейерабенд (1986), последнее означает, что наблюдатели, пользующиеся раз личными категориальными системами, будут постулировать разные факты при одних и тех же физических обстоятельствах в одном и том же физическом мире, или они будут одинаковые факты упоря дочивать различными способами.
Что же тогда обеспечивает необходимую адекватность отраже ния мира, соответствие нашего восприятия действительности? «Говоря о том, что восприятие представляет действительность или со ответствует ей, мы обычно имеем в виду, что результаты восприятия можно более или менее точно предсказать. Это значит, что види мый нами предмет можно также осязать или обонять и должно су ществовать некое соответствие или конгруэнтность между тем, что мы видим, осязаем и обоняем. Перефразируя высказывание моло дого Бертрана Рассела, можно сказать, что то, что мы видим, долж но оказываться тем же самым и при ближайшем рассмотрении. Или иными словами, что категоризация объекта при восприятии служит основой для соответствующей организации действий, направленных на этот объект. Например, этот объект выглядит как яблоко — и действительно, съедая его, мы убеждаемся в этом» (Брунер, 1977, с. 18). Хотя мы познаем мир в существующих у нас категориях, и именно они придают чувственным впечатлениям стабильный харак тер, тем не менее, есть некий предел несоответствия наших категорий реальности. Миру совершенно безразлично, с помощью каких категорий мы его познаем, и он будет обнаруживать свое присутствие в полном объеме, даже если с точки зрения наших представлений каких-то его качеств не должно существовать. Мож но сколь угодно долго строить гипотезы относительно устройства мира и приписывать ему, исходя из наших о нем представлений, любые, сколь угодно фантастические качества, но, вступая с ним в контакт, мы обнаруживаем упругость реальности. Можно быть со вершенно уверенным в собственной невесомости и даже чувство вать ее, но если мы захотим полетать, то довольно быстро ощутим необходимость привести наши фантазии и чувства в согласие с дей ствительностью. То же самое происходит и при менее драматичес ких обстоятельствах. Восприятие комнаты Эймса, с точки зрения наших конструктов, например, совершенно не соответствует ее ис тинному устройству, однако эта иллюзия рассеивается, если просто открыть второй глаз или, еще лучше, в эту комнату войти. Восприя тие — это развернутый во времени активный процесс, и поэтому нет пределов для выделения инвариантов все более высоких поряд ков, и человек может использовать разные уровни и формы действия, проверяя через них адекватность отражения.
Жизненная необходимость обеспечивает отражению адекват ность, без которой оно бы превратилось в пустой фантом. «Мы идем к действительности только лишь путем ощущений, но никогда не бывает так, чтобы она давалась в виде ощущений... Ощущения — всего лишь то, что вносится нашими органами чувств в восприятие. Живое существо имеет дело лишь с предметами, свои потребности оно удовлетворяет посредством них, а не с помощью цвета, запаха, вкуса (самих по себе)» (Узнадзе, цит. по: Надирашвили, 1976, с. 98).
При несовпадении экстраполируемых характеристик чувствен ных впечатлений с реально получаемыми в действиях, выходящих за рамки пассивной регистрации, должна происходить модифика ция познавательных гипотез о природе и характере источника стиму ляции. В большинстве случаев так и происходит, и наши представ ления о мире и налагаемая на него категориальная сеть постоянно подвергаются коррекции. Однако, как уже отмечалось, существуют довольно широкие пределы, позволяющие игнорировать требова ния реальности. Так, мы можем отличить яблоко от его воскового муляжа, находившегося за стеклом витрины, пытаясь от него отку сить; но можно представить себе специально изготовленный муляж яблока, неотличимый от натурального ни вкусом, ни запахом, но ядовитый. В таком случае верификация истинности яблока осуще ствляется через летальный исход.
Быстрота и адекватность смены конструктов зависят от огром ного числа психологических факторов, к конкретному анализу которых мы еще обратимся: когнитивного стиля, степени ригидности или гибкости, когнитивной дифференцированности, структуры категориальной системы, ее артикулированности, возможностей или ограничений действий и манипуляций с объектом и пр. Суще ствуют случаи особой ригидности концептуальных систем, в силу той или иной патологии практически не поддающихся коррекции. В качестве примера можно назвать бредовые конструкции, особен ность которых заключается не столько в степени ложности лежащей в их основе идеи (случай, довольно нередкий и в норме), сколько в полной ее некоррегируемости и непроницаемости для опыта. При столкновении идеи и реальности искажается реальность, причем до пределов, приводящих к летальному исходу (идея о собственной невесомости, например, в этом случае не коррегируется практикой падений).
Адекватность восприятия в значительной степени определяется качеством его проверки, возможностями манипулирования, сопос тавления, практической деятельности, изменения позиции. Суже ние возможностей такой проверки может приводить к стойким ил люзиям и неадекватности восприятия. Поскольку мир дан нам не непосредственно, а через инструмент наших ощущений, то при невозможности проверки мы будем относить искажения, рожденные самим инструментом, к качествам реальности.
П. Фейерабенд (1986) приводит очень интересный случай феномена, который стоит разобрать подробнее. Это неадекватность восприятия космических объектов при помощи телескопа, обна руженная сразу же после его изобретения и служившая сильным аргументом противников Галилея. Смысл этого феномена заключается в том, что если при рассматривании земных объектов телескоп демонстрировал хорошие результаты, то наблюдения неба были смутными, неопределенными и противоречили тому, что каждый мог видеть собственными глазами. «Некоторые из этих трудностей уже заявили о себе в отчете современника Avvisi , который за канчивается замечанием о том, что "хотя они (участники описан ной встречи. — П.Ф.) специально вышли для проведения этого наблюдения... они все-таки не пришли к соглашению о том, что видели". <...> "Это могут засвидетельствовать самые выдающиеся люди и благородные ученые... все они подтвердили, что инстру мент обманывает"...»{Фейерабенд, 1986, с. 266—267).
Самим Галилеем были описаны явления, совершенно противоречившие как современным ему, так и более поздним наблюдениям. На рисунке Луны, сделанном им с помощью телескопа, нельзя обнаружить ни одной черты, которую можно было бы с увереннос тью отождествить с какими-либо известными деталями лунного ландшафта. Объяснение таких явлений заключается, в частности, в том, что, как это отмечал уже Аристотель, органы чувств, рабо тающие в необычных условиях, способны давать необычную информацию ( Owen , 1961). Человек знаком с близлежащими земны ми объектами и поэтому воспринимает их ясно, даже если их телескопический образ значительно искажен. При рассмотрении же небесных объектов невозможно опереться на нашу память для отде ления черт объекта от помех. Все знакомые ориентиры (задний план, перекрытие, параллакс, знание размеров предметов) отсутствуют, когда мы смотрим на небо, поэтому и появляются новые и неожи данные феномены. Добавим, что при рассматривании небесных объектов трудно проверить на практике получаемые знания.
Кроме того, наблюдатель может находиться под влиянием ус тойчивых позитивных иллюзий, связанных с его представлениями об устройстве неба. Так, например, кольцо Сатурна в то время «ви дели» как 2 спутника. «"Луну описывают согласно тем объектам, которые, как считают, можно воспринять на ее поверхности" ( Kastner , 1800 <...>), "Мэстлин увидел на Луне даже ручей" { Kepler , 1865 <..>); см. также записные книжки Леонардо да Винчи... "Если вы помните подробности наблюдаемых на Луне пятен, вы часто об наружите в них большие изменения — в этом я убедился, зарисовывая их. Это происходит под действием облаков, поднимающихся от лунных вод..."»(Фейерабенд, 1986, с. 273). Большой обзор фактов изменчивости образов неизвестных объектов в зависимости от пред ставлений о них содержится в работе В. Рончи ( Ronchi , 1957). Для того, чтобы значительное число телескопических иллюзий исчезло, потребовалось создание И. Кеплеромтеории телескопического виде ния. Аналогичные феномены описаны для наблюдений с помощью микроскопа ( Tolansky , 1964).
Эти примеры, демонстрирующие легкость возникновения иллю зий в условиях ограничения практики, имеют большое значение для понимания особенностей интрацепции, характеризующейся крайне ограниченными возможностями манипуляции, активных действий с источником стимуляции, находящимся, как правило, внутри тела. В этом смысле объект для интрацепции менее доступен, чем Луна для зрения. Ипохондрические иллюзии, связанные с лож ными идеями о тех или иных внутренних повреждениях, весьма легко образуются, но с большим трудом поддаются коррекции.
Форма переживания этих ощущений, в первую очередь, определяется усвоенными представлениями. Так, при истерии локализация поражения соответствует не реальному анатомическому строению организма, а субъективным ожиданиям пациента (Ходос, 1974). Ог ромный материал для анализа зависимостей такого рода дает этног рафия и история медицины (Howells , 1975; Якубик, 1982; Carry , Feher ( ed .), 1980). На собственном опыте каждый знает, насколько трудно определить и точно локализовать необычное или новое, ра нее не испытанное телесное ощущение. Оно лабильно, неотчетливо, изменчиво и единственным способом его более точного определе ния служат своеобразные викарные формы манипулирования: ощупывание, перкуссия, изменение положения тела и пр. Даже для точ ной локализации зубной боли требуется пропальпировать всю челюсть. Медицинская статистика полна случаев неправильной оцен ки и локализации болезненных ощущений, приводящих зачастую к безосновательному оперативному вмешательству.
Г.Е. Рупчев (2001) подчеркивает, что невозможность непос редственного взаимодействия с сердцем или, например, со своим желудком делает невозможной четкую квалификацию их границ, как это возможно с предметами внешнего мира или с видимыми участками своего тела. Не имея стабильных границ, внутреннее тело, соответственно, не получает статуса полноценного объекта в созна нии, так как оно лишено необходимых для этого характеристик и свойств.
Эта особенность внутреннего тела позволяет рассматривать его восприятие в качестве «первичного психического процесса» 3 , характеризующегося снижением контроля за объектом и широкими возможностями искажения, связанными с тем, что «первичные психические процессы» (мечты, сны, фантазии, грезы) подчине ны не «принципу реальности», а «принципу удовольствия» и допускают высокую степень свободы интерпретации. В переживаниях внутреннего телесного опыта реализуются, в первую очередь, не объективные характеристики стимула, вызывающие эти ощуще ния, а скорее проекция аффективных составляющих самосознания: страхов, ожиданий, желаний. Результат «первичных психических процессов» — отражение не объективной реальности, а фантазма- тических представлений о ней, порождающее феномены, близкие к «галлюцинациям воображения».
На близость восприятия внутреннего тела к первичным психи ческим процессам указывал Гроддек (1917), описывая динамику
3 Фрейд предполагал в Оно «...наличие открытого выхода в соматику» (Фрейд,1925а).
сновидений и органической симптоматики. Он сформулировал концепцию сходства генеза органических симптомов с формированием сновидений и невротических симптомов. Он утверждал, что «не су ществует принципиального различия между психическими и орга ническими процессами... Оно проявляет себя в большей мере то пси хическим, то органическим путем» (Цит. по:Рупчев, 2001).
И, наконец, последняя особенность интрацептивного воспри ятия, нуждающаяся в прояснении, — это его предметность, объек тивированность. Это самое фундаментальное качество сознания, которое, конечно, следовало бы обсудить в первую очередь. Однако, поскольку объективированность проявляет себя не непосредс твенно, а через качества модальности, чувственного наполнения и значения, сделать это до их выделения и определения затруд нительно. Несмотря на то, что предметность — самое очевидное качество сознания, оно с наибольшим трудом поддается анализу.
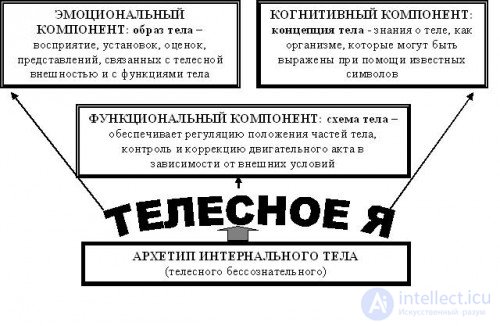
В самом общем виде предметность заключается в том, что чув ственное содержание относится во-вне сознания. «Особая функция чувственных образов сознания состоит в том, что они придают ре альность сознательной картине мира, открывающейся субъекту. Что, иначе говоря, именно благодаря чувственному содержанию созна ния мир выступает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его сознания — как объективное "поле" и объект его деятельности» {Леонтьев А.Н., 1975, с. 134). Раскрывая содержание поня тия «чувственной ткани», А.Н. Леонтьев наряду с чувственным со держанием включил в него и объективированность, «отнесенность», понимаемую как имманентное качество чувственного образа.
Признак отнесенности, как самоочевидный, использовался им, в частности, для критики теории «специфических энергий органов чувств». Крупнейшее недоразумение, по его мнению, «заключается в том, что субъективно переживаемые реакции органов чувств, вызываемые действиями раздражителей, были отождествлены И. Мюллером с ощущениями, входящими в образ внешнего мира. В действительности же никто, конечно, не принимает свечение, возникающее в результате электрического раздражения глаза, за реальный свет, и только Мюнхаузену могла прийти в голову идея поджечь порох на полке ружья искрами, сыплющимися из глаз. Обычно мы совершенно правильно говорим: "потемнело в глазах", "звенит в ушах" — в глазах, в ушах,а не в комнате, на улице и т.д.» (Леонтьев А.Н., 1975, с. 63).
К сожалению, это недоразумение нельзя отмести так просто. То, что в этих случаях ощущение локализуется таким образом, скорее исключение, чем правило, да к тому же оно является пло дом интроспекции. Человеку, у которого никогда не «темнело в глазах», легче ощутить его как изменение обстановки (если это не маловероятно), а в случае же «звона в ушах» можно просто огра ничить возможности активных действий (изменения положения головы, угла восприятия звука), как сразу же станет затруднена его правильная локализация. Мир не объективируется автомати чески, хотя, действительно, все содержание сознания обладает качеством предметности.
Здесь мы сталкиваемся с одной из наиболее сложных психо логических и философских проблем разделения реальности на субъектное и объектное, скрывающего в своей обманчивой просто те и самоочевидности ядерную проблему психологии телесности: что такое тело и какой же части реальности — субъектной или объектной — оно принадлежит. Почему я называю тело моим, что такое не мое тело, почему, если оно мое, оно тем не менее отде ляется от меня, и что останется от Я, если меня отделить от моего тела? Для ответа на эти вопросы нам придется углубиться в дебри феноменологии, но, к сожалению, иного пути у нас нет.
Как ты считаеешь, будет ли теория про проблемы психологии интрацепции улучшена в обозримом будующем? Надеюсь, что теперь ты понял что такое проблемы психологии интрацепции и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Психология телесности
Часть 1 ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ИНТРАЦЕПЦИИ
Часть 2 2.3. Образ тела и телесное ощущение - ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.
Комментарии
Оставить комментарий
Психология телесности
Термины: Психология телесности